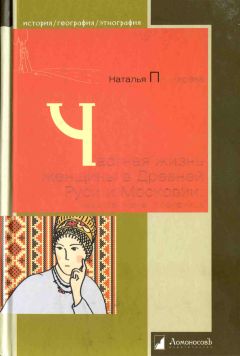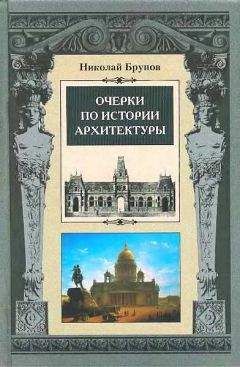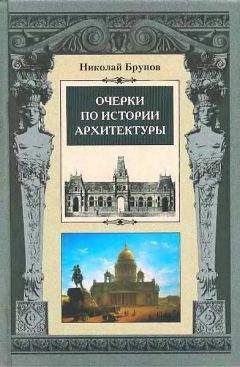В «Беседе души и уму…» Максим Грек пишет «о божественном промысле и на звездоточетцов». Его позиция так же однозначна, как и в полемических сочинениях раннего периода. Но есть и отличие. Если в сочинениях против «звездоточеской хитрости» Булева и Карпова таковая признается в ее прикладном (астрономическом, но не астрологическом) значении, если даже конкретно говорится о ее необходимости в определении календарных сроков, то теперь автор распространяет полезность астрономических знаний на более широкий круг явлений. Разумеется, «не над нами владати учинены быша звезды, о душе, но просвещати аера, нощию омрачаемаго, и времена сказати и по морю плавающим и земли делателем, овем убо егда подобает орати, овем же безбедно плавати»[453]. И еще: «Мы же глаголем, яко знамение от них (небесных тел. — А. К.) бывает дождю и бездожию, студеньству же и теплоте и сухоте и ветром»[454].
Пытливая «Душа» не вполне удовлетворена сказанным, она требует ответа прямого и обобщенного: «Душа: Отметно ли есть убо звездоучительное таинство, аки умышление суще бежбож- ныя мысли халдейския?» На что дается ответ ума: «Ни, любезна ми душе, несть отнюдь отринуто или отметено; но ни паки безразсудно приятно все есть. Понеже ни учение, словесное, логикия нарицаемое, все отметати подобает, понеже нецыи ложне и развратне им стязуются». Следует предупреждение от злоупотребления науками вопреки вере[455] но если науки согласуются со Священным Писанием, то «добро есть, о душе, и взысковати е подобает, аки суще прилежне древних благих муж»[456]. И снова возвращается Максим Грек к «звездозритель- ному художеству», чтобы подтвердить его правомерность в ограде веры: «Ниже паки всеотметну быть звездочетскому учению, но елико, якоже предречеся, поревает в погибельную пропасть и далече Вышняго отлучает»[457]. И вырываются у Максима Грека слова восхищения «премудростью» создателя Вселенной, не тождественные (разные акценты), но вызывающие ассоциацию с чувством наслаждения гармонией мироздания, насколько оно улавливается по одному из цитированных посланий Максима Грека Федору Карпову: «Добро убо, душе, и благоразумней мысли немало есть радование звездоявительно учение. Како бо несть, идеже всепрекрасная премудрость зрима есть создавшаго всяческая Бога слова, но еще и человеческому житию не мала оттуду польза, но елико неблазненно знати солнечное и лунное течение и разсудити применения четырех времен и яже от сих бесчислена лета считася»[458].
В ином ключе и в ином объеме трактуется «звездочетское умение» в «Беседе», если сравнить с высказываниями о нем в полемических посланиях Максима Грека. Вряд ли можно найти объяснение этому только в жанровом отличии «Беседы» от полемических посланий, отдавая полную дань особенностям того и другого жанров. В полемических посланиях Максим Грек, не отрицая наук, не возбраняя занятия ими, был сдержан и скуп в их положительных оценках. Теперь ноты оставались теми же, но слова, положенные на них, изменились. В каком направлении шла эволюция: от «Беседы» к полемическим посланиям или от полемических посланий к «Беседе»? Ответ предрешен источниковедческим исследованием. «Беседа» принадлежит второму периоду творческой деятельности (и биографии) Максима Грека. Это подтверждается и характером сравниваемых произведений. Иными были бы полемические послания Максима Грека, если бы за ними уже стояла «Беседа». Прежде всего, свое отношение к «звездоучительству» Максим Грек, не вдаваясь в рассмотрение вопроса, мог бы высказать простой ссылкой на «Беседу»; если же не хотел отсылать оппонентов к уже написанному, то мог бы высказаться с той степенью непредубежденности и полноты, как в «Беседе». Так он не сделал, да и не мог сделать — «Беседа» еще не существовала.
Мы склоняемся к датировке «Беседы» концом 40 — началом 50–х гг. К этому времени ни Булева, ни Карпова, главных оппонентов Максима Грека, не было в живых, полемических выпадов против расширительного толкования «звездоучительсг- ва» можно было не опасаться. С другой стороны, культурный процесс XV‑XVI вв. в области естественнонаучных знаний неизменно наращивал «натуралистическую тенденцию», пользуясь словами историка древнерусской науки Т. И. Райнова[459]. Особенное значение имеет тот факт, что не только люди, прямо причастные к умножению «натуралистических» знаний, но и летописцы регистрировали те или иные явления природы. Т. И. Райнов анализирует летописные сведения о «небесных знамениях», относящихся к концу XV в. Он отмечает факты «выветривания и опустошения» их мистического истолкования летописцами, «выветривание мистической логики», имеет место описание их не как «знамений», а как природных явлений. Одно из описаний засушливого лета 1371 г. служит исследователю для заключения: «Отмечается… не только общеизвестная тогда связь между засухой и неурожаем, но, по–видимому, и предполагаемая связь между явлениями на солнце и на земле»[460]. Комментируя запись I Псковской летописи под 1472 и 1493 гг., исследователь пишет: «Нередко «натуралистически» — заинтересованное внимание летшисцев привлекали эстетически–прекрасные формы солнечного и лунного гало» (белые или радужные круги около Солнца или Луны. — А /С.)[461].
Итак, полемика вокруг астрономических знаний (и астрологических гаданий), развернувшаяся в 20–е гг. XVI в. между Максимом Греком, с одной стороны, и Николаем Булевым и Федором Карповым — с другой, имела культурный фон, широко и далеко простиравшийся за фигурами полемистов. Любование летописцев природными явлениями как «эстетически–прекрасными» предшествует чувствам Федора Карпова, вызванным у него гармонией мироздания, чувствам, которым оказался не чужд и Максим Грек. К небесным явлениям в их отношении к земным нуждам людей мысль летописцев пробивалась задолго да того, как Максим Грек в «Беседе» отдал должное астрономии, поскольку она служила интересам «земледелателей» и «мореплавателей». Несомненно, что «Беседа» написана совсем в ином жанре, чем полемические послания Максима Грека, но в некотором отношении не совсем посторонняя «спорам» и она.
Наблюдения Т. И. Райнова выигрывают в убедительности, если сравнить их с другим направлением в истолковании небесных явлений в пределах того же летописания. Освобождение от «мистической логики» и мысли летописцев в преддверии каузального их объяснения природных явлений, включая их значимость для трудовой деятельности людей, выступает как качественно новый элемент общественной мысли, если сравнить с вековыми традициями телеологического истолкования небесных явлений. Эти традиции были не только господствующими, но и безраздельно господствующими в летописании с XII по XV в., господствовали они и в последующем летописании. Псковский летописец, отмечая лунное затмение 1284 г., замечает: «древние хронографы глаголют, яко знамение несть на добро»[462]. Как пишет на основе изучения всего корпуса летописных источников В. К. Кузаков, «общая установка, которую трактовали летописцы, гласила однозначно: «знамениа бо в небеси или в звездах или в солнци… или етером чим не на благо бывает, но знамениа сица на зло бывает». При несовпадении теории и результатов явления объявляли, что «обратил Бог знамение то в добро»[463]. Размах колебаний в летописных оценках небесных явлений заключался в пределах от однозначного истолкования небесных явлений как небесных знамений, предвещающих «зло» (что преобладало), до более гибкого: «знаменьа бо бывают ово же на добро, ово же на зло», на что обратил внимание исследователь[464].
Небесные знамения «предвещали» людям «зло» во всех возможных направлениях, будь то голод или мор, стихийные бедствия, но их распространяли и на явления общественной жизни. «Так, когда в 1246 г. на небе заметили комету, то некие «хитрецы же (не намек ли на астрологов? — А. К.) смотревше, тако рекоша, ове мятеж велик будет». Правда, на этот раз «теория» не сработала, но лишь потому, спешит разъяснить летописец, что «Бог спас Своею волею». Спустя несколько столетий, уже в 1553 г. «людие же порасудив. и глаголаху в себе, яко быти во царстве пременению некоему»[465]. По–видимому, в данном случае «предзнаменование» сделано было задним числом. Это был год смерти Василия III и «в Царстве пременение» произошло на самом деле.
Чрезвычайно важно обоснованное исследователем заключение, что летописцы широко пользовались информацией разных людей и в разных местах их пребывания, чтобы не упустить возможности отразить в своих трудах те или иные небесные явления, тем более, что, видимые в одних местах (солнечные и лунные затмения, прохождение комет, звездные дожди и др.), они были невидимы в других. Им явно придавалось чрезвычайное значение как людьми, среди которых собирали сведения летописцы, так и самими летописцами. Мистическая связь между небесными явлениями, выступающими в качестве «знамений» исторических событий, поддерживается всем комплексом древнерусской литературы начиная со «Слова о полку Игореве», не менее весомо в повестях Куликовского цикла и вплоть до «Казанской истории», козда царю «леппу… мало уснути» то ли во сне, то ли наяву явились «два месяца», один с востока — «мал и темен», другой с запада — «зело пресветел и велик велми». Месяц восточный «потрясашася» обратился в бегство, но был пойман и поглощен западным месяцем, напустившим на Казань «звезды огненныя»[466].